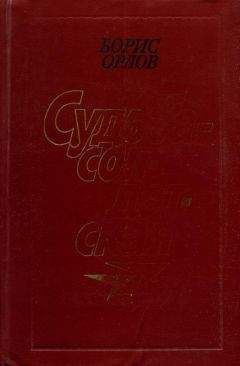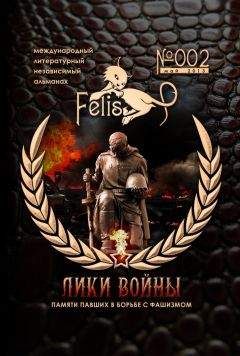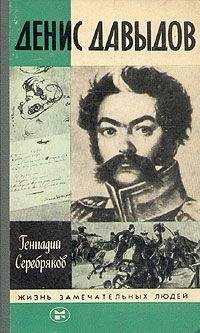— Вы с повестками? По мобилизации?.. Без повесток? Так что же вы топчетесь тут?! Работать мешаете! Шли бы домой. Понадобитесь, сами вызовем.
Валя вздохнула. «Гонят, — подумала с горечью она и обратила внимание на юношу, лицо которого было ей знакомо. — Где же я его видела?» Наконец вспомнила: перед сквером, у столба с репродуктором, когда вчера выступал Молотов с заявлением правительства о начале войны.
Это было на проспекте. Перед рупором собралась толпа. Слова тонули в томительной тишине. Люди, встревоженные трагической вестью, перестали, казалось Вале, совсем дышать… Когда радио смолкло, стоявший рядом мужчина горько вздохнул. А парень — тот самый юноша, которого она сейчас увидела в военкомате, — вдруг высоко подбросил кепку и, сверкнув глазами, с бесшабашной удалью выкрикнул: «Даешь Отечественную! Разомнем косточки!» Пожилой мужчина сурово посмотрел на парня и, осуждающе покачав головой, тихо проговорил почти над Валиным ухом: «Комедиант! Чему радоваться? Это же… трагедия!» И слова его остались для Морозовой непонятными.
Валя несколько раз прошла туда и обратно по коридору. Украдкой еще раз оглядела парня, подумала: «Тоже мне — трагедия… Что нам теперь — носы повесить? Воевать пойдем!»
Взявшись за ручку какой-то двери, Валя вдруг почувствовала, что робеет. Пересиливая эту непонятную ей робость, она все-таки вошла в комнату и остановилась перед столом, за которым сидел молоденький лейтенант. Он сосредоточенно просматривал какие-то бумаги и долго не обращал на нее внимания. Потом поднял утомленные глаза и неожиданно улыбнулся. Пригласил сесть. Слушая Валю, лейтенант украдкой разглядывал ее. Когда она замолчала, он вежливо произнес:
— Девушка, я лично ценю ваш патриотизм, но… Сами посудите, если мы займемся сейчас добровольцами, а их у нас тьма, когда же нам работать? А потом… вы же должны знать: женщин у нас в армию не берут. Что ж, что вы учились в Осоавиахиме!.. Возникнет необходимость, будете работать здесь, в тылу… но это — если возникнет. — И ласково улыбнулся: — К нам все приходят и говорят так, будто мы век собрались воевать с Гитлером. Поверьте, у нас сил хватит без вас, женщин. Вот войска подтянем и ударим.
Лейтенант поднялся, дав этим понять, что разговор окончен.
После военкомата улица ослепила ее светом. Бросились в глаза тяжелые стены Солодежни, а с нею охватили и воспоминания о Петре. Валя даже будто вновь ощутила и тот первый его боязливый поцелуй… Но это радостное прошлое проскользнуло в памяти мимолетно — реальность взяла свое.
Солнце плавило асфальт. «Сколько живу, не помню такой жары», — подумала Валя. Каблуки туфель тонули в асфальте, и она сошла на проезжую, устланную булыжником часть улицы. Стремление уйти в армию как-то само собой отпало уже тогда, когда узнала, что женщин, несмотря на войну, на военную службу не берут. Но здесь, на улице, в ней все запротестовало. «Что это за неравенство? — возмутилась она. — В Конституции одно, а на деле — другое». В горкоме, садясь за свой столик, Валя твердо решила искать правду. «Не может быть, чтобы девушек в армию не брали, когда у них военная специальность есть, — думала она, приводя в порядок папку с протоколами заседания. — Вечером схожу к Соне. Посоветуюсь».
В комнату то и дело заходили активисты-комсомольцы, секретари комсомольских организаций города, незнакомые парни и девчата. Все искали такого человека, который бы объяснил им, что делать в «новых условиях», как выражалось большинство из них. Обычно подходили к Вале. Потолкавшись и ничего не добившись, уходили. А на смену им появлялись новые. Это отвлекало от работы. Валя пожаловалась заведующему орготделом:
— Хоть бы совещание провели, что ли, с ними. Разъяснили задачи.
Тот велел собрать секретарей комсомольских организаций на завтра, и Валя до конца работы обзванивала секретарей, сообщая им о совещании. После работы, забыв, что хотела сходить к Соне, по привычке направилась домой. Вспомнила об этом уже за кинотеатром «Пограничник». Повернула обратно, к Запсковью. Ни на что не обращая внимания, прошла мимо летнего сада, вдоль Октябрьской площади и сквера имени Кирова, подошла к Крому… Вспомнился разговор в военкомате. И в угнетающей немоте вечернего города Валя вдруг вообразила, что оттуда, из-за белокаменной кремлевской стены, несутся набатные раскаты вечевого колокола. Под этот тревожный, призывный стон металла, виделось ей, собирался, прихватив на всякий случай с собою топор, меч или просто вилы, встревоженный люд. Как смола в котле, кипела страстями площадь перед Троицким собором. Сбивались в отряды, в полки… Валя не знала песен, которые пел тогда народ, схватываясь в борьбе с захватчиками, и поэтому, представив, как поднимается на подмогу псковитянам взбудораженная лихом Русь, она, Валя, шептала слова, сложенные о том времени в наши годы, но ей казалось, что это они, ее далекие безымённые предки, поют, взывая к родной земле: «Вставайте, люди русские, вставайте, люди добрые…» И они вставали, шли… И вот уже, виделось Вале, летели головы с надменных и безжалостных немецких псов-рыцарей. И мелькали среди богатырей русских женские платки да белые, лебединые руки, взявшиеся не за бабье дело… И это прошлое как-то слилось с нею, Валей, и представилось в сознании плотью кровной ее земли, сущностью ее самой. И оно-то, это прошлое, перенесло ее опять в реальный мир, и Валя на старинную церковь, которую огибала, перейдя через Пскову́ по мосту, смотрела уже так, будто не было ни ее, церкви, ни того прошлого, с которым она только что встречалась как наяву, ни смутно представляемого будущего. Оставалось, проясняясь, только настоящее, наполняющее страстью делать что-то для защиты Родины.
Соня с матерью занимала полдомика с отдельным входом.
Когда Валя зашла к ней, та собирала для стирки белье. Увидев появившуюся в дверях подругу, всплеснула руками:
— Ой как ты кстати, как кстати!
Они сели на кушетку. Соня обняла Валю полными, сильными руками. Светло-серые, чуть косившие глаза ее остановились, круглое румяное лицо с коротким, немного курносым носом стало серьезным. Валя посмотрела на висевшую над кроватью гитару — Сонин подарок Федору к дню рождения — и рассказала, как ходила в военкомат, о вечевом колоколе, о русских женщинах…
Соня слушала. Когда Валя смолкла, проговорила:
— Это пустяки. Война только началась. Думаешь, она в два-три дня кончится? Как бы не так. Война пока идет, мы с тобой еще доказать успеем, на что способны. Ты просто несобранная. Надо ждать. Время покажет. Я вот сегодня в цехе у нас читку проводила, так старые рабочие говорят, что война эта… надолго. Сейчас даже неясно, как она и идет: мы фашистов бьем или они нас. Надо подождать… У нас митинг утром был… Знаешь, какая сейчас задача перед нами всеми стоит?
Валя перебила, невесело усмехнувшись:
— Да уж как не знать! Ты забыла, где я работаю? За эти дни наслушалась.
— Представляю. — Соня встала, прошлась по комнате, посмотрела в окно, снова села. — Мне, например, тоже порой кажется, что надо что-то делать, идти куда-то и проситься, чтобы взяли на такую работу, где я принесла бы много-много пользы. А проходит какое-то время, и думаешь по-другому: не суй носа. Там, — она подняла руку вверх, — думают и знают, что делать. И успокаиваешься. Берешься за обычные житейские дела, например за белье. — Соня помолчала, вспомнив что-то, заговорила неторопливо, с раздумьем: — Порой я просто не разделяю охватившую всех тревогу. В эти минуты я даже не верю, что действительно началась война… А в общем, война идет… и нас бомбили.
Соня улыбалась, потому что думала сейчас о Феде, о том, что кончится война — не век же ей быть! — и они снова встретятся, и навсегда. Ее голова с зачесанными назад вьющимися светло-русыми волосами, подстриженными коротко, опрокинулась на подушку кушетки, глаза на мгновение застыли. Разрумянившееся лицо горело.
Сонино настроение передалось Вале, и она перестала думать о военкомате, о своем желании уйти в армию и тоже улыбалась.
— Ты, Сонька, счастливая. Ты можешь рассуждать, как философ, — говорила она ей. — Тебе надо было учиться, а не на комбинат идти… И я дура. Занес меня черт не знаю куда: одни бумаги…
Они разошлись поздно. Валя поговорила с подружкой, и ей стало будто легче.
Оставшись одна, Соня замочила в большом долбленом деревянном корыте белье, чтобы утром встать пораньше и успеть до работы его выстирать. Вернувшаяся от соседки мать сказала дочери, чтобы та ложилась и не думала о белье.
— Я сама выстираю, — говорила она ей, шепелявя. — Ты не простирываешь. Не люблю я, когда белье не простирано… Все торопишься куда-то.
— Когда это не простирано было? — удивилась Соня, почти всегда стиравшая сама. — Ты уж тоже, мама, скажешь!
Мать легла спать на свою деревянную кровать, накрывшись байковым одеялом. Соня ушла на кухню и стала просматривать «Краткий курс истории партии», потому что на очередном партийном собрании ее должны были принимать кандидатом в члены партии, а она к этому готовилась основательно.